
И руки протянув двадцатому столетью...
Повести «Капитанская дочка» и «Хаджи-Мурат» в свете проблемы власти и войны
Проповедовавший непротивление злу насилием, Лев Толстой встретил жесточайший XX век, глядя на него глазами беспощадного воина Хаджи-Мурата. Сквозь этот взгляд явно угадывался другой, непокорный и бунтарский: прищур Емельяна Пугачева. На немыслимые по своей усложненности извивы и абрисы символизма тяжелым камнем упало художественное завещание вечного сектанта русской литературы: неизъяснимо глубокое произведение — небольшая повесть «Хаджи-Мурат». Все до одного деятели культурного авангарда со страхом и трепетом вздрогнули: в лице «Хаджи-Мурата» реализм доказал свою неисчерпаемость и вечность. Концентрация художественно-творческой энергии этой повести равнялась мощи атомного ядра: Толстой сотворил символ, эквивалентный открытию ядерной модели атома. Это — устье. Исток же — «Капитанская дочка» Пушкина. Еще не начались кошмарные мировые войны, а гении русской литературы уже протягивали руки помощи и надрывным юношам «потерянного поколения» Запада, и светлым советским мальчикам «сороковых-роковых». Две самые страшные и ядовитые социальные язвы отобразили и осудили всей мощью своих дарований Пушкин и Толстой: власть и войну.
Далеко не случайно так мучительно тяжело создавались и «Капитанская дочка» и «Хаджи-Мурат». Пушкин, за месяц с небольшим всего выплеснувший из себя «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», почти четыре года восходил на Голгофу «Капитанской дочки». Толстой же, с перерывами, трудился над своей стостраничной вещью восемь лет. Насчитывается 23 начала «Хаджи-Мурата», имеется 10 редакций всего произведения в целом, сохранилось 2153 черновые страницы повести. И автор отложил произведение «в стол»: оно вышло в свет уже после смерти Толстого. И Пушкин, и Толстой широко использовали собранные ими исторические и фольклорные материалы. Александр Сергеевич выезжал в Оренбург и на Урал собирать материалы как по «Истории Пугачева», так и для задуманного им произведения об эпохе Крестьянской войны. Лев Николаевич проделал при создании повести о завершающем этапе Кавказской войны колоссальную научную работу. Для одного только первого короткого наброска «Хаджи-Мурата» в течение трех недель он прочел 5000 страниц различных источников.
Но все это обилие труда и размышлений лежит для читателя за рамками повестей. Не это в данном случае самое важное. На авансцене осталось другое — художественное совершенство обоих произведений. Поэт Пушкин уверенно говорит чеканной «суровой прозой», а эпически размашистый и необозримый Толстой в первый и последний раз в своей длительной творческой жизни создает поэтически звучащий текст. Мало того, 20 ноября 1897 года у него в Дневнике отмечено: «Много обдумал Хаджи-Мурата и приготовил материалы. Все тон не найду». Когда же наконец после неимоверных усилий Толстой «нашел тон», повесть зазвучала поистине музыкально — как героическая симфония. Никаких привычных для прозы Толстого неиссякаемых подробностей чувств и переливчатых психологических нюансов — все чисто, прозрачно, кратко и выразительно.
Ароматом неиссякаемого мужества и доблести веет от «Капитанской дочки» и, особенно, от «Хаджи-Мурата». Уникальный сплав, поэтический синтез истории и вымысла присущ этим двум произведениям. При сжатости и концентрированности повествования, все вытекает из взаимодействия обстоятельств и характеров героев как определенных типов русской жизни данной эпохи. Весьма многозначно и многозначительно, что главенствующая роль и в «Капитанской дочке», и в «Хаджи-Мурате» принадлежит «разбойнику», если рассуждать с банальной социальной точки зрения, бунтарю с трагической судьбой, если быть поэтически-объективным. И Пушкин, и Толстой смело идут навстречу сложным противоречиям в живых личностях своих главных героев: это и непреклонно жестокие воины, в борьбе не щадившие врага, не раз перешагивавшие через человеческую кровь, способные и на жестокость, и на расчетливую хитрость, и в то же время верные друзья, часто простодушные, располагавшие к себе люди. Как Бутлер рядом с Хаджи-Муратом, так и Гринев рядом с Пугачевым выглядят характерами несравненно более мелкими, неопределенными, неустоявшимися.
Весьма часто Пушкину ошибочно приписывают ставшее знаменитым высказывание: «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный». Да, сочинил эту фразу Александр Сергеевич, но вложил ее в уста Гринева, причем последний произносит эту тираду в так называемой пропущенной главе. Проще говоря, в каноническом тексте «Капитанской дочки» нет этого прямолинейного и тенденциозного высказывания. Пушкин смотрел на Крестьянскую войну восемнадцатого века несравненно проблемней, сложней, глубже, чем его юный герой. В «Замечаниях о бунте», посланных Пушкиным Николаю I как приложение к «Истории Пугачева», он писал следующее: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства».

Вникая в реальные факты пугачевской эпохи, знакомясь с судьбами десятков и сотен участников войны, которую вели казаки, крестьяне, беднейшие слои населения против дворян, помещиков, царских войск, Пушкин приходил к решительному выводу о противоестественности крепостного права, о непримиримости интересов дворян и угнетенных, обездоленных, прежде всего, крестьян. Образ Емельяна Пугачева неудержимо и властно притягивал многими прочными нитями Пушкина-историка и Пушкина-художника. А разве случайно в письме к брату Льву в ноябре 1824 года он называет другого бунтаря и вождя мятежников Степана Разина «единственным поэтическим лицом русской истории»?! Тема народного бунта красной нитью прошла через весь творческий путь Пушкина. Лев Толстой откровенно признавался, что «...Хаджи-Мурат — мое личное увлечение». Сюжет повести возник неожиданно и в то же время естественно для творческого инстинкта Толстого. 17 июля 1896 года Лев Николаевич поехал к своему брату Сергею в имение Пирогово, расположенное в 35 километрах от Ясной Поляны. На другой день он совершал в окрестностях Пирогова прогулку и увидел поразившую его картину, о которой записал в Дневнике: «Вчера иду по передвуенному черноземному пару. Пока глаз окинет, ничего кроме черной земли — ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной, серой дороги куст татарника (репья), три отростка: один сломан, и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, черный, стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в серединке краснеется. — Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял ее». К этому описанию через месяц были прибавлены слова: «... все стоит и не сдается, и один торжествует. Молодец! — подумал я, — и какое-то чувство бодрости, энергии, силы охватило меня. Так и надо! Так и надо!» Старый, опытный, дерзкий и бесстрашный боец художественного фронта буквально встает на дыбы, как необъезженный юный скакун: по его же гениальному высказыванию в нем вспыхнула с неудержимой силой «энергия заблуждения» — весь мир погибнет, если он остановится творить. Проповедник, учитель, публицист, педагог, моралист — все отошло на задний план. Художник, исключительно только творец парит над каждой строкой «Хаджи-Мурата». Идея борьбы, воли к жизни, свобода поступка, отрицание деспотизма и войны — многоступенчатый символ повести. Позже, уже в процессе работы, Толстой афористично высказался об основной отрицательной идее своего произведения, которую он беспощадно и мастерски развенчивал — «психология деспотизма». Но путеводная нить этой всевековечной проблемы, опять же, протягивается от «Капитанской дочки». Для Пугачева, так же как и для Хаджи-Мурата, нет нигде в мире того государства, где бы они могли достойно существовать и проявлять свои незаурядные способности. Они люди вечной борьбы, нескончаемого боя, который они ведут в безнадежной ситуации. Но тем не менее никогда не теряют мужества, надежды, не страшатся трудностей, не останавливаются перед жертвами, перед потерей собственной жизни. Бывают таланты в науках, в искусствах, в государственном и военном делах, но оба наших героя талантливы прежде всего независимостью своей личности, гордостью духа, органичным неприятием самовластья. Пугачев «с каким-то диким вдохновением» рассказывает Гриневу калмыцкую сказку об орле и вороне — вечный укор сытому мещанскому благополучию и прозябанию. Патетически-гордым и суровым аккордом завершается страстный рассказ Пугачева: «Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!..» Хаджи-Мурат вспоминает легенду, также символически-трагичную, когда оказывается между молотом Николая I и наковальней Шамиля: «И он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах, и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. «Лети, — сказали они, — туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут». Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и заклевали его». Подобно героям Гомера и Эсхила предстают перед нашими глазами Пугачев и Хаджи-Мурат, эти необходимые, хотя и редкие, дрожжи в тесте человеческой массы. Но нашему XX веку эти образы особенно близки тем, что они во многих своих проявлениях все же довольно далеки от идеальных героев-полубогов античности. Пугачев вынужден выдавать себя за царя-батюшку Петра III, а Хаджи-Мурат бежит сначала от Шамиля к врагам русским, затем же от русских сбегает уже навстречу неминуемой гибели. Все здесь сплошное противоречие, неоднозначность, случайность, безысходность. Деспотизм государственной власти выдавливает, устраняет из своих структур рано или поздно личностей, подобных Пугачеву или Хаджи-Мурату. Самовластье и героика вещи несовместные, как гений и злодейство. В символической главе «Вожатый» из «Капитанской дочки» как бы все государство и общество России охвачено непроглядной метелью, кромешным снежным морем и лишь один человек стоит на «твердой полосе» — Емельян Пугачев. И ему-то предназначено, используя свое тонкое, поистине природно-звериное чутье и сметливость, вывести из мрака и хаоса кибитку, в которой сидит наивный, добрый и пока еще чистый помыслами дворянский недоросль Гринев. А в главе «Сирота» возмужавший и много испытавший уже Гринев прямо говорит сам себе: «Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему». Да, для официальной, чиновничьей и дворянской России «Емелька» Пугачев являлся несомненным и дерзким «извергом и злодеем», но один из умнейших и лучших аристократов-дворян Александр Сергеевич Пушкин и вызывал своей удивительной повестью «сильное сочувствие» к личности предводителя Крестьянской войны. Точнее даже будет сказать, что Пушкин художественными методами и средствами «строил» для взгляда и понимания читателя эту сложную и неоднозначную личность. «Дикарем», «разбойником» и «бандитом» являлся для петербургской России и Хаджи-Мурат. Но художническому взгляду Толстого он увиделся «красивым и цельным типом настоящего горца». Автор сумел и читателя «заразить» тягой к незаурядным качествам своего героя. Наделенный выдающимися способностями и волей, Хаджи-Мурат даже в самых критических, «экзистенциальных» ситуациях сохранял гармонию души. По взгляду Толстого, в этом его герою помогали глубокие связи с природой, с народной культурой и обычаями, с мусульманской верой. А своеобразная взрывчатая «дикость» Хаджи-Мурата, его детская непосредственная наивность и страстность как раз и помогали ему противостоть безжизненной и циничной «цивилизованности», которую сам граф Толстой страстно и беззаветно наивно отвергал. Уже в первой главе повести можно без труда уловить и «услышать» тот самый «тон», который Лев Николаевич упорно искал и блистательно «нашел».Портрет А.С.Пушкина. Гравюра Н.И.Уткина с портрета О.А.Кипренского. 1827
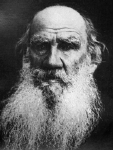
[На
первую страницу (Home page)]
[В раздел "Литература"]
Дата обновления
информации (Modify date): 03.01.05 13:16